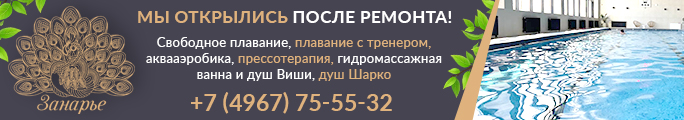Реаниматолог из Подмосковья рассказал о работе с коронавирусными больными.
Реаниматолог-анестезиолог Михаил Чащин работает в третьей больнице Сеченовского университета и ГКБ им. Демихова. Он рассказал «Базе» о жизни в эпоху коронавируса, тяжёлых пациентах, неоднозначной статистике и восприятии смерти.
Чем занимались до COVID и чем занимаетесь сейчас?
До COVID я работал в отделении реанимации, которое профилировалось на больных с кардиологической патологией. Потом уже я стал работать не как кардиореаниматолог, а просто как реаниматолог общего профиля. Сейчас я реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
С чего началось перепрофилирование ваших больниц, какие возникли трудности поначалу?
Алгоритм был простой. Пациент поступал, оценивался его статус — либо в реанимацию, либо на обычную койку. Брали мазки, если обнаруживался COVID, спустя три дня, к примеру, то пациента забирали в профильный инфекционный стационар нашей больницы или в Коммунарку. Если он лежал в палате с кем-то, забирали вместе с соседями. Затем палата мылась и закладывались новые пациенты.
Где все это проходило тяжелей?
Это были для нас совершенно новые пациенты: нужно было перестроить ум, нужно было перестроить сознание, другая тактика, другие взгляды, подходы к терапии, другие параметры ИВЛ, другие критерии. Ни я, ни мои коллеги, никто толком не знал, что делать. Знали только ту информацию, что поступала от коллег из Италии, из Испании, Франции, Китая, — она была достаточно размытая и нам не понятная. И до сих пор многие вещи нам не понятны. Мы лечим эмпирическим путем, нет доказательств ни одного, ни другого метода. Более того, одни исследования противоречат другим.
У вас только тяжелые больные?
Да. Я хочу сделать на этом акцент. У меня свой взгляд на этих больных через призму отделения реанимации: мы видим только тяжёлых больных. Мы смотрим с позиции реанимации, как пресса. Это не совсем правильно. Мы не говорим о том, сколько человек выписалось, сколько выздоровело, мы делаем акцент на плохом. Все, что хорошо, не очень интересно. Интересно, что плохо. Но смертность у нас действительно одна из самых низких, сейчас много дискутируют по этому поводу. И вчера было большое совещание патологоанатомов, были разговоры с коллегами из Германии — нашей смертности не верят. Говорят: «Вы врете!», «Не может быть у вас такой смертности». У нас же смертность меньше процента.
А вы в это верите?
Я в это верю, хотя бы потому, что в это укладывается элементарная статистика. Кроме того, если бы мы получили смертность как в Италии или в США — это невозможно было бы скрыть. Вот как появилось видео машин скорой помощи, которые стоят в очереди, вот так же появились бы видео из морга. Как тела лежат друг на друге, их складируют, сжигают и так далее.
Сейчас много что говорят — вот, там хоронят людей от инфаркта или каких-то других инфекций, осложнений внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции, тем самым скрывают статистику. На самом деле это не совсем так. Мы действительно пишем в основной диагноз коронавирусная инфекция, а дальше уже по ходу. Даже если она не подтверждена, а имеет клинику и КТ. Если человек попадает на ИВЛ, к примеру, — вот он лежал и вдруг начал ухудшаться. Он уже погибает не от коронавирусной пневмонии, он погибает от сепсиса. Потому что на хорошую почву, где разрушены клетки, инфекция садится с большим удовольствием. Присоединяется сепсис, нарастает печеночная, почечная недостаточность, и органы просто начинают отказывать. Не только у пожилых, это и у молодых людей. Так из-за чего умер человек? Из-за коронавирусной инфекции или от бактериальной инфекции? Из-за сепсиса. Потому что коронавирусную инфекцию он пережил, уже иммуноглобулины у него выработались. У него вируса нет. Умирает он на двадцатый день, потому что реальные осложнения.
Как уже пишут патологоанатомы, мы не знаем. И это может оказаться проблемой, потому что артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца — это все диагнозы, которые могут быть первыми или конкурирующими. И если патологоанатом поставит кардиосклероз на первое место, к примеру, то у нас будет расхождение. Нужно понимать, что в большинстве случаев человек от коронавирусной инфекции не умирает. Он умирает от осложнений. Либо он доживет до того, чтобы у него образовались антитела, либо не доживет.
В реанимации мы видим смерть постоянно: и до COVID, и во время COVID. Для нас смерть — это что-то, что мы не смогли предотвратить. Это часть нашей работы, к сожалению. Реаниматолог является неким проводником — он может помочь человеку остаться. Либо не сможет, и человек уйдет. Он последний, с кем встречается человек, мы к этому привыкли.
Самое тяжелое — это молодые люди, которые попадают в реанимацию и умирают. В отделении у нас был молодой человек 38 или 39 лет, он тоже откуда-то приехал, из Италии вроде бы. У него был COVID положительный, дыхательная недостаточность, Довольно тяжелый. Несмотря на всю терапию, эти явления не купировались. Уже случились необратимые последствия, и было принято решение о переводе его на ИВЛ. Естественно, человек был в сознании в этот момент, мы ему сообщили, ему было все озвучено. Будет трубочка, будет дискомфортно немножко, ты будешь спать, потом мы тебя разбудим и трубочку уберем. Все разъяснили. Он начал плакать. Он просил не дать ему умереть, потому что у него родился маленький ребенок и он даже с ним не виделся... В общем-то, он умер.
ИВЛ — это костыль, это не лечение. Это помощь пациенту пережить те процессы, которые происходят у него в легких. Мы можем седировать пациента. Сделать так, чтобы он себе не вредил, когда у него дыхательная недостаточность. Вылечиться он может только сам. Мы помогаем человеку пройти весь этот тяжелый период: пока образуются антитела, пока они уберут все вирусы, которые размножились за это время.
Были ли еще случаи, которые могли перевернуть что-то в вашем сознании?
Это было в самом начале. Случай внебольничной пневмонии. Приехал молодой человек, лет 37, привезла его психиатрическая бригада. Какая была суть вызова: молодой человек вызвал полицейских к себе домой, сказал, что соседи украли у него одеяло и его облучают через стены. Психоз. Полиция вызвала психиатрическую бригаду. Приехала, померила ему температуру. Оказалась 38,5. Отвезли в 1-ю ИКБ, там сделали рентген, увидели внебольничную левостороннюю пневмонию и отправили его к нам. Мы получили его от психбригады, которая суммарно с ним провела часов шесть. Пациент был переведен на ИВЛ, он мог навредить себе и навредить окружающим по психическому состоянию. Через три дня пришел положительный анализ на COVID. На фоне интоксикации, на фоне пневмонии у него случился психоз тогда. Внимания здесь стоит даже не он сам, а то, что он ездил с психиатрической бригадой, — девушка-врач, медбратья-фельдшера. Они провели с ним шесть часов без защиты.
Часто ли так получалось, что вы видели своих коллег на койке или у себя же в реанимации?
Не далее как три дня назад мы похоронили своего коллегу, тоже врача-реаниматолога. Наверно, дней десять пролежал. Все было хорошо, положительная динамика, но в один день просто произошло какое-то ухудшение. Все анализы, все ферменты пошли вверх, наросли явления дыхательной недостаточности, естественно, перевели на ИВЛ. Он уже понимал, что, в общем-то, все. Мы боролись до последнего. И встал вопрос о проведении ЭКМО [Экстракорпоральная мембранная оксигенация, к которой прибегают при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. — Прим. ред.]. Этим занимается 52-я больница, наше руководство уже согласовало его перевод. Когда заведующий позвонил насчет его статуса, чтобы бригада его забрала, сказали, что уже идет сердечно-легочная реанимация. Это, наверно, самое тяжелое, когда уходят коллеги, которые знают. Потому что ты сам можешь оказаться на этом месте.
Нет контраста между врачом, который все понимает, лежа на ИВЛ, и между обычным пациентом?
Есть огромный контраст. Врач знает. Врач знает, что в случае с ИВЛ с аппарата снимается один человек из десяти. Он понимает, что, скорее всего, он уже не вернется. Когда человек обычный лежит, да, он понимает, что ему что-то делают, что-то дают, какие-то препараты, что-то поменяли в очередной раз, вот мне легче, тяжелей, опять легче. Он не придает значения этому. Это как обычный лечебный процесс.
Врач это по-другому воспринимает. Он пропускает это через свои знания. У пациентов в критическом состоянии, как правило, мозг пребывает в состоянии гипоксии. А если человек еще и сам реаниматолог, то его знания под влиянием гипоксии трансформируются, появляются искажения, он начинает фантазировать, сам утяжелять свое состояние. Плюс эта депрессия, которая развивается, потому что он понимает, что он безысходен. Если человек просто заехал в отделение реанимации, он уже думает, что он покойник потенциальный.
У меня есть коллега, которая лежит у нас в отделении. Человек, который хочет жить. Который вцепился в жизнь, и она готова делать все во что бы то ни стало. Я не знаю, к чему это приведет, пока у нее идет положительная динамика. Она лежит на животе столько, сколько нужно, практически весь день. Это так называемое положение — пронпозиция. Когда случается пневмония, особенно в нижних и средних отделах, до альвеол не доходит воздух. Когда человек ложится на живот, у него вынужденно начинают работать задние отделы легких. Мы заставляем лежать на животе по 14 часов в день, легкие должны быть постоянно в расправленном состоянии. Это реально тяжело, очень тяжело.
А есть другая категория людей, которые даже не медработники, они говорят: «Ой, да у меня все хорошо», «Ой, отстаньте от меня». Это особенность именно у пациентов с коронавирусной инфекцией: в тяжелом состоянии, когда их переводят в реанимацию, они говорят «Да у меня все хорошо, ничего не нужно. Я здесь себя хорошо чувствую. Сейчас я отдышусь, и все хорошо».
Это же из-за страха, наверно.
В том-то и дело, это не страх, это некая эйфория, которая наблюдается у множества больных. Им хорошо. Они смотрят на себя и говорят, что у них все хорошо. У них одышка, а они говорят: «Сейчас, я чуть-чуть откашляюсь, и все будет хорошо». Такого не бывает у других больных в критическом состоянии с дыхательной недостаточностью. Они, наоборот, слишком возбуждены.
Есть только предположение, это наблюдения мои и моих коллег. Вполне возможно, что вот эта гипоксия развивается постепенно, на фоне интоксикации случаются такие явления энцефалопатии. Начинаются паника, возбуждение. Я думаю, мы это будем разбирать после. Эта пандемия перестроит все не только в медицине, науке, вирусологии, но и во всей жизни.
Часто ли к вам попадают ребята моложе 30 лет?
Редко, но бывают. Сейчас мы перевели, слава богу, парень 29 лет у нас лежал в отделении с COVID. Другой пример был в самом начале, тоже 29 лет, пациент со множеством патологий. Он очень много пил, как оказалось. Надо было раньше об этом говорить — родителям в первую очередь. COVID, как правило, любит полных, с диабетом и артериальной гипертензией. В 80% случаев COVID протекает в легкой форме или бессимптомно. По официальной статистике, у 44% протестированных людей не было вообще никакой симптоматики, даже горло не болело.
Получается, надо сдавать тесты на антитела, чтобы действительно понять, переболели вы или нет. Для тех, кто сидит дома.
Люди не знают, за что они сидят. Они не понимают, зачем они это делают. Почему они должны думать о других, в то время как умирает их бизнес, умирают их семьи, умирает их все. Чтобы что? Не умерла какая-то бабушка? Это, к сожалению, наше общество, в котором мы живем. Да, мы не хотим думать о других. Большинство молодых людей не понимают, зачем эти меры были введены. Они не знают, зачем они сидят. А это достаточно просто: они сидят не для того, чтобы не заразиться или перенести куда-то инфекцию, а чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы люди не лежали на полу в коридорах, чтобы у реаниматолога хватало рук, чтобы заниматься одним пациентом, двумя, тремя, пятью, шестью. На двух дежурных врачей лежали по 27 человек.
Люди не знают, что такое нагрузка на систему здравоохранения и чем это чревато. Их родственник может попасть просто в больницу и остаться без врачебного внимания. Это то, о чем сейчас много пишут на «фейсбуке»: у меня лежит тот-то, к нему не подходят третий день. Извините, пожалуйста, в дежурную смену работают один хирург, который стал врачом-инфекционистом, один невролог, который тоже им стал, и один пульмонолог на корпус. А больше никого нету.
А вот то, что студентов сейчас рекрутировали на помощь?
Это вообще. Вы понимаете, что произошло? У нас нет чрезвычайного положения, но у нас настолько все хорошо, что мы выводим студентов. Работать и лечить. Ладно там окончившие университет, «врачи-лечебники», ладно. Ребята 4–5–6-го курса, я даже по себе знаю, хотя я был не самым плохим студентом и окончил с красным дипломом, я по себе знаю, что это невозможно. Когда ты приходишь в клинику, у тебя сознание меняется. Меняет твое сознание не институт, а клиническая практика, у кого ты учишься именно врачебному делу. Именно эти учителя делают из тебя врача. А здесь студенты приходят: один врач бегает, у него попа в мыле. Что он им, уделит внимание? Лишние руки хорошо, но руки с высшим медицинским образованием — еще лучше.
С выплатами у вас нет проблем?
Нет, с ними проблем нет. Все выплаты мы получили. Смотрите, если врач работает на полторы ставки — он за сколько должен получить, за ставку или за полторы? Дали за ставку. На сайте Минздрава написано: не более одной ставки. То есть врачам невыгодно работать на две ставки, на полторы, устраивать себе дополнительные дежурства.
Даже учитывая этот факт, вы все равно пойдете и продолжите работать на полторы ставки, разве не так?
Безусловно, не могу бросить коллектив. Ни один, ни другой в сложившейся ситуации. И они пользуются этим — руководство больницы, государство. Тем, что медики — это большие терпилы, они коллективные, они хорошие такие, больных не бросят, друг друга не бросят. А бастовать нельзя, потому что это уголовно наказуемо. Самая бесправная категория граждан — это медицинские работники, у них есть только обязательства. Вот ударишь полицейского, не дай бог убьешь — тебя посадят, не разгребешься. А вот ударить врача — это ничего, так это, мелкое хулиганство.
А было из пережитых вами историй что-нибудь позитивное? Чтобы кто-то переводился из реанимации и потом дальше шел на поправку? Вас находили после этого, дарили подарки?
Были положительные эмоции. Недавно на 26-е сутки ИВЛ мы убрали пациентке трахеостому, трубку в горле. И вчера я уходил, она довольная, веселая на обычной маске сидела. При этом она полная, она потеряла во время всего этого килограммов 40.
Еще был положительный момент. У нас молодой парень лежал, а родители его прислали нам пиццу в отделение. И там были прямо в чеке благодарственные слова. И это были смешанные чувства: с одной стороны, ты еще не вылечил никого и не перевел, он находится в тяжелом состоянии. Человек может умереть в любой момент, может находиться в палате и умереть, все. В той же самой реанимации, у него все хорошо, все замечательно и вдруг умер.
На самом деле, когда человек говорит спасибо — это намного важнее, чем вот эти все торты, конфеты. В реанимации давно никто ничего не приносит. Ни деньги, ни букеты. Очень редко. Все это оседает в отделениях. Это приносится тому, кто выписывает. Как правило, никто не вспоминает того, кто тебя спасал с того света.
Мы смотрим на все через призму реанимации, это неправильно. Нужно смотреть с позитивной стороны на это заболевание. Тогда и результаты будут другие. Мы сейчас получаем с голубых экранов о том, что все плохо, сидите дома, столько людей умирает. Нужно говорить о том, сколько людей выписывается. Если бы наш оперативный штаб давал информацию о том, сколько людей вылечилось, сколько находятся в стационаре, сколько госпитализировалось, вот это было бы более актуально.
Источник: